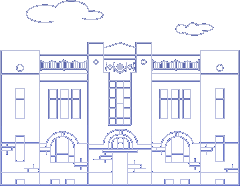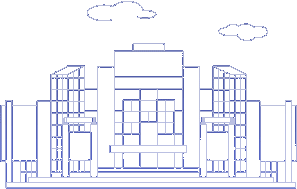Драматурги. Архивные спектакли.
Шур Исаак Соломонович
В 2003 году исполняется 90 лет со дня рождения Исаака Соломоновича Шура. Еще 10-20 лет назад многие в городе знали это имя: смотрели его фильмы, спектакли, читали статьи, слушали выступления. Но человек ушел. Изменилось время. Появились новые имена, новые идеалы. Может, прав был поэт, когда говорил: «единица –0?». Исаак Шур «не поднял дом пятиэтажный», не потряс устои, но этот московский интеллигент, волею судьбы попавший на вятскую землю, оставил свой след в культуре и духовной жизни края.
В «Энциклопедии земли Вятской» в томе «Знатные люди» написано:
Шур Исаак Соломонович (17 (30) декабря 1913 - 13 февраля 1976) (ЭЗВ, т. 2)
Писатель, драматург, член Союза писателей (1962). Родился в
г. Смоленске. В школе начал учиться в Москве, в 1926-1927 учился в Вятке.
В 1930 уехал на Сахалин, куда был сослан его отец. Работал на Байкале, Севере, Кубани, Кавказе. В 1938-1939 был репрессирован, но оправдан по суду. В 1940 окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Участник Великой Отечественной войны. Награжден боевыми орденами и медалями. Работал в министерстве лесной промышленности. С 1957 жил в г. Кирове, работал на комбинате «Кирлес», потом на Кировском телевидении главным редактором кинопроизводства. После войны начал литературную деятельность. Его первая пьеса была поставлена в 1955. Пьесы «Диплом на звание человека» и «Заводские ребята» обошли более 100 театров нашей страны каждая. Кировскому ТЮЗу за спектакль «Письма к другу» (по пьесе И. Шура и А.Лиханова) была присуждена премия Ленинского комсомола (1967). Умер в г. Кирове.[1]
В 13 строк уместилась целая жизнь…
Цель данного исследования - узнать, что стоит за каждой строчкой, данной в Энциклопедии, как конкретный, талантливый человек «делал историю», как определял в жизни свою гражданскую позицию, как в несвободное время умел быть внутренне свободным и формировать вокруг себя духовный климат.
В деталях одной жизни видится историческое время и судьбы людей на фоне эпохи.
Мое исследование начиналось с изучения литературы об И. Шуре.
О нем писали А. Лиханов, Л. Лубнин, М. Чебышева и другие кировские поэты, писатели, журналисты. Но больше всего информации было получено от самого И.Шура: его давно нет в живых, но сохранились его письма с фронта, литературное наследие и его живой голос – выступление перед школьниками, записанное на пленку незадолго перед смертью.
Бесценными явились воспоминания тех, с кем он работал, дружил. Это работники кировского радио, телевидения, артисты театров. В семье бережно хранится архив драматурга. Встречи с сыном И. Шура - Борисом Исааковичем, его воспоминания, а также материалы кировских архивов и местной прессы – все это легло в основу данной работы.
«Ленинградское дело»
Исаак Шур родился в 1913 году, он был четвертым ребенком в семье, получил традиционное еврейское воспитание. Его отец – Соломон Шур, мать – Белла Рабинкова жили в Одессе. Во время революции 1905 года были еврейские погромы. Соломон, вместе с другими евреями, создавал отряды самообороны для защиты своих семей, сражался на баррикадах. После подавления революции семья бежала от неминуемой расправы за границу, а затем нелегально вернулась в Россию. Поселились в Смоленске.
После Октябрьской революции судьбы членов семьи сложились по-разному. Отец, Соломон Шур, был меньшевиком, возглавлял Смоленский Областной совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В 1921 году семья переехала в Москву. В дальнейшем, на протяжении всей жизни, как бывший меньшевик, он неоднократно подвергался репрессиям со стороны советской власти: несколько раз арестовывался, был в ссылке в Вятке, на Сахалине, в Соловецком лагере.
Собрать полные сведения о семье Шуров очень сложно, т.к. при советской власти очень часто иметь биографию было опасно – это могло стать предметом социальных чисток, которые регулярно проводились в стране.
Первая встреча с Вятской землей произошла у будущего драматурга в 1922 году. За отказ отречься от своих товарищей по партии его отец, вместе с семьей, был отправлен сюда в ссылку. Исаак в 1926-1927 годах учился в школе имени Тургенева (эта школа находилась в центре города, недалеко от Вятской гуманитарной гимназии, где теперь учусь я.) Сейчас в этом здании располагается Дом культуры профтехобразования. Школу И. Шур оканчивал уже в Москве.
После школы поступил в дорожный техникум. Отца в это время отправили в ссылку на Сахалин, и Исаак после окончания первого курса поехал туда за ним. Впоследствии он вспоминал: «Летом ездил в экспедицию по изысканию дорог, был на Байкале, на Ангаре, на Сухоне, в Гуамском ущелье, на холодных реках Сибири и бурных потоках Кавказа. Исходил много лесных тропинок и нехоженых мест».
В 1934 году Исаак Шур поступил в Московский лесотехнический институт. Вскоре это учебное заведение перевели в Ленинград. Шур стал студентом Ленинградской лесотехнической академии. Вместе с другими студентами он жил в общежитии.
Так сложилась судьба, что в одной комнате с Исааком жил сводный брат Льва Николаевича Гумилева – Орест Николаевич Высоцкий. Их отец – Николай Гумилев, блестящий русский поэт начала двадцатого века, был расстрелян в 1921 году, как участник «Таганцевского заговора», как враг советской власти. Супруга Николая Гумилева, великая русская поэтесса Анна Ахматова, и их сын, Лев Гумилев не отреклись от своего мужа и отца, за что в течение многих лет неоднократно подвергались преследованиям и репрессиям. Лев Гумилев арестовывался 4 раза, в общей сложности провел в тюрьме 19 лет. В 1938 году он был студентом Ленинградского университета, занимался научной работой, подавая большие надежды (впоследствии он стал создателем нового направления в истории – этнологии). Причиной ареста Л. Гумилева в 1938 году стало его пререкательство с преподавателем университета Л.В. Пумпянским, который глумился над его отцом, поэтом Н. Гумилевым. Через много лет Л. Н. Гумилев скажет о своих арестах: «В 1935 я сидел – за себя, в 1938 – за папу, а в 1949 – за маму». Профессорского доноса оказалось достаточно для ареста Л. Гумилева. На студентов Управлением НКВД по Ленинградской области было заведено уголовное дело №55724 по ст. ст. 17-58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР. Они обвинялись «в участии в молодежной антисоветской террористической организации ЛГУ и в подготовке террористического акта против А. А. Жданова».
Был арестован и сводный брат Л. Гумилева – Орест Высоцкий, студент Лесотехнической академии. Так возникло второе дело - «террористов – прогрессивистов». По нему проходили слушатели Лесотехнической академии. Оба дела вела одна и та же бригада следователей, возглавляемая Бархударьяном. Были арестованы 8 студентов, проживавших в одной комнате с Орестом Высоцким. И среди них - Исаак Шур.
В архивах Кировской области нет материалов, связанных с арестом Исаака Шура по этому делу. Большой удачей в ходе нашего исследования было появление публикаций ленинградских историков О.В. Головниковой, Н.С. Тарховой «И все таки я буду историком» (О новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном военном архиве)».
В этих материалах несколько раз упоминалась фамилия Шура, что дало документальное подтверждение событиям, о которых знали только в семье.
Из приговора Военного трибунала Ленинградского военного круга:
«Сов. секретно
Именем Союза Советских Социалистических Республик
Военный Трибунал Ленинградского военного округа
В составе Председательствующего…
Членов:…
на закрытом судебном заседании в г. Ленинграде 27 сентября 1938 г. рассмотрел дело
по ОБВИНЕНИЮ: Гумилева Льва Николаевич, 1912 г. рождения…
УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:
…Руководителем … контрреволюционной террористической молодежной организации являлся Гумилев, который одновременно был связан с активными участниками антисоветской террористической группы, существовавшей при Ленинградской Лесотехнической Академии и возглавлявшейся Высоцким, Шуром и др., подготовлявшим[и]ся совершить террористический акт над руководителями ВКП(б) и Советского правительства…[2]
Обращает внимание то, что дело рассматривалось в военной инстанции, а также не указаны фамилии членов военного трибунала.
Год и 9 месяцев провел Исаак Шур в печально знаменитой ленинградской тюрьме №1 («Кресты») и в здании НКВД на Литейном, подвергался всевозможным пыткам и издевательствам, т.к. отказался оговорить себя, подписать ложные показания. Сидел в одиночной камере, подвергался «конвейерному» допросу, который продолжался двое суток. Следователи сменяли друг друга каждые 8 часов, подследственный не имел ни минуты передышки. Невыносимо болел затылок, были сломаны ребра, выбиты зубы… Но Исаак твердо стоял на своем: невиновен.
Следствие затянулось на 1 год и 9 месяцев. 180 студентов Лесотехнической академии вызывались на допрос в качестве свидетелей, и только трое дали нужные для НКВД показания.
Из следственного дела:
В начале следствия обвиняемые себя виновными признали и показали, что они подготовляли теракт над т. А. А. Ждановым. При этом Гумилев прямо указывал, что его мать Ахматова в личных беседах с ним высказывала террористические намерения и подстрекала его на к/р деятельность (т.I, л.д. 16). Кроме признания обвиняемых, на Гумилева имелись показания Высоцкого, Шур и Гольдберга, привлекавшихся к ответственности по другим делам.
На судебном заседании ВТ ЛВО 27/IX–1938 г. обвиняемые от своих первоначальных показаний отказались, ссылаясь на то, что давали их по принуждению (т.II, л.д. 196). В связи с этим, определением Военной Коллегии Верхсуда СССР от 17/XI–38 г. дело было возвращено на доследование (т. II, л.д. 207).
В процессе доследования дела Высоцкий, Шур и Гольдберг от своих показаний также отказались и приговорами Ленинградского Областного Суда от 23/V–1939 г. и 28/IX–1939 г. по суду оправданы.[3]
Я думаю, что никаких «показаний» Высоцкий, Шур и Гольдберг не давали. Показания были подготовлены и написаны бригадой следователей. Но весь арсенал пыток не заставил Исаака Шура поставить свою подпись под тем, чего не было, оговорить себя, своих товарищей. Мужественно вела себя и Александра Тузлукова, жена И. Шура, учившаяся вместе с ним в академии. Она не поддалась нажиму секретаря комитета комсомола И. Воронова (будущего заместителя министра лесной промышленности СССР), который предложил ей выступить на открытом комсомольском собрании и отречься от любимого человека как врага народа и осудить его. Потом уже стало известно, что следователь обещал Шуру арестовать жену, если тот не подпишет протокол с признанием своей вины.[4]
Иначе сложилась судьба студентов Ленинградского университета. Лев Гумилев и его товарищи были осуждены по статье 58, пункт 17 (б) на 8 или 10 лет.
Забегая вперед, хочется сказать о том, что в 1947 году И. Шур, капитан артиллерии, еще не снявший военную форму, встретил своего главного мучителя в вагоне метро. Но следователь Бархударьян не узнал его. Позднее, в 1964 году, как бы переосмысливая эту встречу, драматург написал рассказ «В самолете». Это единственный имеющийся у нас документ, раскрывающий его отношение к этому делу. Автор, он же герой рассказа, сидит в самолете со своим следователем, выбивавшим в 1938 году из подследственного показания. Подследственный добивается от следователя одного, чтобы он его узнал, задает ему вопросы, напоминая обстоятельства допроса-истязания. На оправдание следователя подследственный отвечает: «А зачем оправдываться? Никто вас не обвиняет. И никто не судит. Я только хочу, чтобы вы узнали меня. Только». Быть безвестной жертвой, без имени - это отказаться от части своей биографии. Чтобы всех поименно назвать, себя назвать – это значит не бояться, не скрывать свое прошлое. Едва ли подследственный надеется на раскаяние следователя, но своей цели он добивается. Следователь узнает его: «Студент. Группа «террористов-прогрессивистов»».А потом называет и фамилию.
Жертва не обвиняет и не судит, но старается сделать все, чтобы совесть следователя стала ему и судьей и палачом. И хотя верится с большим трудом, что совесть садиста готова к этой работе, слишком сильна защита: «Я не виноват. Я выполнял приказ... Я делал то, что от меня требовали». Встреча России, которая сидела и которая сажала, ограничилась моментом узнавания. (Мы не «лагерная пыль»!). Уйдя из жизни в 1976 году, И. Шур не узнал, дойдет ли дело до покаяния тех, кто садил, и возможно ли их прощение теми, кто сидел. А вот всех поименно назвать – общество эту работу делает.
В 1964 году начать эту работу – тоже была большая смелость И.Шура. Ведь «обработка подследственных следователями-садистами была такова, чтоб напугать на всю жизнь».
К сожалению, рассказ «В самолете» не был опубликован при жизни И. Шура. Он увидел свет только в 1994 году.[5]
Его война.
Мне эти письма не дают покоя,
Ведь достоверней документов нет,
Чем строки, что писались перед боем
В них боль и гнев, страдание и свет.
Свидетели живые, очевидцы,
Молчавшие так много лет подряд…
Давай прочтем отдельные страницы
Из книги жизни. Пусть заговорят!
М. Чебышева,
кировская поэтесса
Письма с фронта
Война застала инженера Шура в Архангельске, где после окончания академии он работал инженером. В 1941 г. Исаак вытребовал для себя отправку в действующую армию, хотя ему была положена «броня» в Оборонстрое НКВД на Ленинградском фронте.
– Что тебе надо? У тебя все есть, - говорили ему. Ответ был краток:
Я еврей. Мое место на фронте! А у вас я могу быть лишь в одном качестве.
О поголовном уничтожении евреев Гитлером было уже известно, так что фашизм стал для И. Шура личным врагом его Родины, его народа. А фраза: «…а у вас я могу быть лишь в одном качестве» - может быть понята по-разному. Заключенного? Еврея? Ведь отношение к евреям зачастую было предвзятым.
Будущий драматург начал войну в качестве рядового, а закончил командиром артиллерийской батареи в звании капитана. Был награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной звезды и медалями. Военный путь командира артиллерийской батареи И. Шура проходил через Брянский, Калининский, 3–й Белорусский, Прибалтийский фронты.
Сохранились письма, написанные Исааком Шуром на фронте и адресованные его жене – Александре Тузлуковой. [6]
1942г.
«Очевидно, завтра я буду уже в другом взводе. Это хорошо со всех сторон. Главное, что руководит мной в переходе из этого взвода в другой, - срок обучения. Мне хочется как можно скорее окончить училище и в часть – готовиться к фронту. Взвод, в который я перехожу, должен по плану кончить курс учебы в середине марта. Это полтора – два месяца разницы с нашим взводом. Судя по пройденному материалу, мне придется крепко подзаняться. Меня, это, конечно не смущает. В общем, я доволен. К тому же атмосфера в нашем взводе очень не хорошая. Если бы дать волю кое-кому, то меня буквально бы съели люди. Но, к сожалению этих людей, ко мне хорошо относятся командиры. Я просто поражен даже. Держусь я очень независимо – солдатского во мне мало (конечно, устав блюду). В общем, командиры и преподавательский состав относятся ко мне хорошо. Даже до того, что при сомнении майора, догоню ли я по основному предмету, за меня вступился преподаватель и взял ответственность на себя. Итак, скорей кончать училище! Вот мой лозунг. Скорее в часть, на фронт, в бой!»
Не поступаться своими убеждениями, своей честью в любых обстоятельствах заставляло присущее И. Шуру чувство внутренней свободы, глубокая личная ответственность за происходящее. Эти качества отмечают все, кто знал его и в послевоенной жизни. Конечно, предубеждения против независимых, к тому же евреев и людей грамотных вполне могли быть, но только до боевых действий, где кто есть кто проверяла война.
2 августа 1943 года.
«…А повоевали хорошо! Кое-кто уже награжден орденами. Награжден и мой комбат. У меня спрашивают: «А почему вы не награждены? Ведь огонь-то вели вы, танки сожгли вы!» Я смеюсь. Не объяснять же бойцам, что я в жизни своей не подхалимничал и не уживался с бездарными начальниками. С комбатом я живу хорошо. Но начальство выше – ох! Ни оно меня, ни я его… Чертов у меня характер. Но ничего не попишешь. Просто не знаю, что со мной делать. Начальство характером недовольно. Ты характером недовольна. Одно успокоение – воюю честно, не жалея сил, не экономя ненависти к врагу (благо она неиссякаема), и, …женульку свою люблю.»
«Чертов характер» - это то, что в письме из училища он определяет как независимость, разумеется, при соблюдении Устава. Но какая «зависимость» прослеживается в этих письмах от боевых товарищей, от людей, освобожденных из оккупации.
5 июня 1943г.
«Родненькая моя! Ты просишь не забывать. Глупенькая моя! Разве можно писать такие слова? Забыть тебя… А кого же тогда мне помнить? С чьим именем я пойду воевать, чьи глаза будут согревать меня своей нежностью?»
О солдатах своей батареи он пишет как о любимых, родных и близких ему людях, тяжело переживает их ранения и гибель.
29 августа 1943г.
«Смерть Шаповалова, 21-летнего парнишки, потрясла меня, я очень любил его. Прекрасное молодое лицо, ясное, жизнерадостное, бесконечно светлая улыбка стоят передо мной… Часто он приходил ко мне и рассказывал о своей жизни. Орудие он любил, работал прекрасно. Такого наводчика больше не найти… И такого парня. Вот так и живу: узнаю людей и теряю их.»
10 апреля 1944 г.
Родная моя! Прости, что редко пишу – нет времени и сил. Да и дни очень тяжелые. Больше я уже не пошлю тебе привет от Вани Неупокоева. Он погиб. Бесконечно жаль его. Ведь он почти с первого дня мой ординарец. Потеряли еще прекрасного парня - Долгих. Это был наводчик. Бесконечно скромный, тихий, прекрасный работник. Жаль
людей.
24 сентября 1944г.
Васе Курову позавчера осколком оторвало правую руку. Ах, какой это жизнерадостный, красивый, умнейший парень! В нем великолепно соединились смелость, воля, решительность и необыкновенная нежность. Он любил забираться ко мне в блиндаж или в ровик, или под куст и говорить о жизни, любви, счастье.»
Из выступления на станции юных туристов в декабре 1975 г.
...Пришло пополнение. Я сидел в землянке, старшина привел людей. По-очереди они заходили ко мне и я спрашивал фамилию, имя, откуда… Высокий голубоглазый мальчик. Ему было 17 лет. Зашел.
–Фамилия?
–Рудин.
–Звать?
Он на меня посмотрел и говорит: «Мама меня звала Тата, а вообще меня зовут Толя». Мне врезалось в память: «Мама меня звала Тата». Однажды он рассказывал о своей жизни, о том, что он любил девушку одну, ее убило во время обстрела, а потом вдруг говорит: «Вот вернусь я домой, когда кончится война, а у нас такая набережная в Ярославле, подойду к самой красивой девушке и скажу: «Девушка, можно я вас поцелую? Я воевал за вас». Ну вот как, она откажет или нет?».
–Да как она сможет отказать, не откажет, не сомневайся!
Пришел приказ мы выехали на место в Тришкяй, есть такой город в Прибалтике, вышли на опушку рощи, стояли и смотрели как убегают фашисты, уезжают из города танки и транспортеры. И в это время кто-то из немцев, видимо желая подбодрить себя, дал очередь по опушке леса. Нас стояло 5 человек, упал один, Толя. Он упал сразу. И когда над ним склолнились, он сказал только одно слово: «Убили»…
Похоронили. Поставили пирамиду со звездочкой. Командир отделения принес мне дощечку, чтобы я написал: кто и что. Я написал, отдал ему. Он взглянул на меня удивленно: «Комбат, что это ты написал» - я посмотрел. Там было написано, совершенно машинально: «Мама меня звала Тата».
В письмах родным артиллерийский офицер И. Шур редко рассказывает о своих личных военных удачах, успехах подвигах. Но как бы между строками читается, что он был отважным, мужественным бойцом, хорошим командиром, настоящим героем войны.
29 августа 1943г.
«Пишу на трофейной бумаге и отсылаю в трофейном конверте. Сейчас я фактически командую батареей. Мой комбат получил орден «Красной звезды» и занимается больше одним хозяйством. Я нахожусь в тяжелой артиллерии. У нас артиллерия разрушения. Действуем мы крупным соединением по указанию Главного командования. Когда пехота успешно идет вперед – нам мало работы. Мы иногда только «поддаем огонька»… Я здесь уже третий день. Со мной разведчик, телефонист, радист. Изучаю местность. Ищу дзот и огневые точки, наблюдательные пункты, врага, траншеи, колючую проволоку. Предстоит горячий бой… С бугров смотрят стереотрубы и ищут наши наблюдательные пункты… Знаю, что если меня заметят, то обрушат на мою голову много огня… Сколько раз, отряхивая землю, удивляешься, что остался жив… Переживаний много. Но некогда с ними разбираться. Когда я один – хуже. Когда кругом подчиненные, я всегда помню, что я для них пример. Меня зовут «отчаянный». Как-то ребята спрашивают: «Неужели вам не страшно?» Я засмеялся, говорю: «Конечно, страшно…»
И далее в этом же письме он рассказывает об одном эпизоде, что остался в памяти на всю жизнь, как страшный образ войны, которую он прошел.
«Но есть кое-что более страшное. В одной маленькой, разрушенной дотла деревушке я подошел к мальчику 7 лет. Он копал лопатой могилку. Мать угнали немцы. Перед тем она спрятала в огороде детей – его, семилетнего, и светловолосую четырехлетнюю девочку. Мать думала, что вернется вечером. Прошло восемь дней. Мама не пришла. Девчурка заболела и умерла. Семилетний мальчик маленькой лопаткой копает могилку для своей сестры. Я положил ему хлеб, сало и две конфеты. Он прячет это все в карман, а потом достает одну конфетку и всовывает ее в мертвую маленькую ручку, закутывает в одеяльце крохотное, худенькое тельце и продолжает копать.
Я хочу помочь ему. «Не надо, дядя. Я сам выкопаю». И добавил, помолчав: «мамка не пришла… Угнали немцы…» В этот день я мог бы писать письма, но не мог, было свыше сил… Это страшнее пуль, мин, снарядов и бомб…»
Это воспоминание давало артиллерийскому командиру, его бойцам силы бить фашистов не думая ни о чем, не щадя себя.
3 октября 1943г.
«… Во весь этот период боев самые рискованные операции в дивизионе ложились на меня. Я всегда с радостью лез в самые горячие переделки… Сейчас передышка. Фронт от нас далеко.
Откровенно говоря, я уже не могу слышать, что где-то воюют, а я нет…
Теперь могу подвести маленький итог своей работы. У меня лучшее из очень многих подразделений. На партсобрании командир дивизиона сказал, что батарея работает как часы, особенно четко мой взвод управляется. Действительно, в последние бои мне уже не нужно было отдавать приказы – все и так знали, что делать и как делать. Весь этот период у меня блестяще работали связь и разведка. В общем, смотря на сделанную работу, я испытывал удовлетворение. Как оценена моя работа, еще покажет будущее, а пока что я принят кандидатом в члены партии, за боевую деятельность дважды представлен к награде».
Его батарея занимала первое место, по количеству уничтоженных целей противника и первое место - по наименьшему количеству людских потерь.
Исааку Соломоновичу Шуру довелось вести бои в местах, о которых мы знаем с детства по книгам и урокам литературы. Это дорогие каждому русскому человеку места: Михайловское, Тригорское, Пушкинские горы. Он смотрел в стереотрубу на домик няни, в котором немцы установили орудие и пулемет, около которого они нагло стояли, зная, что советские солдаты по этому дому бить не будут.
28 марта 1944г. 31 марта 1944г.
«… С моего НП видно далеко. Вот ст. Тригорская, вот Пушкинские горы. Вот Пушкинский заповедник. В стереотрубу видно Михайловское. Вот Пушкинский домик с выбитыми стеклами. Пушкинский заповедник уже крепко порублен. Дорогие нам места…
Страшно подумать о том, что перед уходом немец пожжет все эти деревни, как пожег те, что сейчас за нашей спиной.
… Закопавшись в землю, живут 4 семьи – старики и паренек 12 лет. С какой надеждой смотрят на меня, на нас. Оборона проходит по реке. На том берегу целенькие деревни, еще живые, хотя разреженные рощи. Я вздрагиваю от слов 73-летней старухи:
–Сынок, а нельзя как-нибудь обойти эти места да окружить их? Сожгут ведь…
–Что сожгут?
–Да домик-то Пушкина, Михайловское, Пушкинские горы… Я, бывало, в девках еще, иду из монастыря, да на могилку-то его, Пушкина, да там помолюсь еще богу…
Я долго слушаю рассказы о домике няни, о Пушкинском доме… Старая женщина в землянке, построенной на месте сожженной деревни, думает… о Пушкине!»
8 декабря 1944г.
«… Несколько дней назад я сидел в подвале разрушенного дома в 200 метрах от немцев. Собралось человек 25 пехотинцев, артиллеристов, танкистов. Я читал бойцам Чехова. Да, да Чехова. Вначале «Медведь», потом «Предложение». Я думал на этом кончить, но голосов 20 подняли такой шум, что я опять открыл книгу. И начал читать…»Чайку». «Чайка» на передовой… ты не представляешь как слушали… Снарядом побило связь. И вот два плачущих голоса взмолились: «Подождите читать, пожалуйста, мы быстро…» Через некоторое время они прибежали, тяжело дыша, потные и мокрые: «Связь есть: Хорошо! Дальше не читали?» При полной тишине дочитал пьесу. У слушателей глаза полны слез. Из темного угла раздается голос: «Если бы про нас так писали…»
И на войне человек остается человеком.
10 мая 1945г.
«Поздравляю с Днем Победы! Итак, война кончена!
Когда-нибудь я расскажу вам всем о сказочной ночи фронтового салюта в честь Победы. Салюта ракетами, трассирующими снарядами, прожекторами… Черные фронтовые дороги зажглись тысячами фар, движущихся в темноте машин. Великие минуты! Бессонная ночь счастья! Ласковый, радостный рассвет и митинг в проблесках утра…»
«Ура взорвалось, прокатилось почти утихло и вновь поднялось над толпой солдат вместе с летящими вверх пилотками... Да здравствует вождь и организатор всех наших побед! Великий! Сталин! Ура!»[7]
В этот момент Победа, Родина и Сталин слились для И. Шура и его боевых друзей воедино. Так было – из песни слова не выкинешь.
Из воспоминаний И. Шура:
«Когда я читаю или смотрю кинофильмы о войне, или смотрю спектакли и нарываюсь на ложь, спекуляцию на самых благородных чувствах людей – мне становится очень больно, я принимаю это как личное оскорбление, оскорбление всех фронтовиков.
Война и по сей день во мне. Я трепетно отношусь к пройденному и пережитому. Много раз брался за эту тему, но отступал, боясь, что не сумею написать ту великую правду, что вела нас в бой. Память о войне для меня святая святых... О войне я написал только пьесу «Горящее сердце» - об А. Матросове. О послевоенной армии – пьесы «Товарищи офицеры» и «Новобранцы». Набросал несколько зарисовок коротеньких рассказов».
Почему? Не потому ли, что то, что он знал о войне и как понимал ее – писать было нельзя, а как надо было власти – он не хотел.
Творческая судьба Исаака Шура
В 17 лет И. Шур любит стихи Лермонтова, Пушкина, Некрасова, из современников: Безыменского, Демьяна Бедного, С. Кирсанова. Стихи Маяковского не любил, потому что почти их не читал. В доме о Маяковском отзывались очень непочтительно, а в школе о нем и речи не было. Встреча с ним на выставке «20 лет работы» изменила его отношение к поэту и его литературные вкусы: «Безыменского не могу читать». Исаак Шур не мог читать Безыменского, потому что был свидетелем позорной сцены: Безыменский, работавший в «Комсомольской правде», вышел из зала, когда зал решил написать письмо в «Комсомолку», чтобы выразить возмущение травлей Маяковского. Уходящему Безыменскому 20-летний парнишка крикнул вдогонку «Эх ты, морковный кофе». Поэт в России или больше, чем поэт, или меньше, чем поэт в зависимости от гражданской и личной позиции. Так, возможно, и стали формироваться творческие взгляды И. Шура. Всю жизнь он боялся стать «морковным кофе».[8]
Свои рассказы и стихи он начинает рассылать по редакциям будучи еще студентом Ленинградской академии. Один из критиков, отказавших ему, сказал все-таки доброе слово: «Лучше всего у вас получаются диалоги». И пошли у И. Шура пьесы и сценарии. В 1940 году сценарий фильма был принят в производство на Мосфильм, но помешала война. Увидеть свою фамилию в титрах фильма ему не пришлось и не придется. После войны он станет писать для театра, а работать после демобилизации в Министерстве лесной промышленности. В 1948 году он вместе с семьей был вынужден уехать из Москвы (о готовящемся аресте его предупредил тогдашний начальник отдела кадров Министерства лесной промышленности, его друг Георгий Калашников: «Исаак, уезжай я ничего не могу сделать, мне приносят из Особого отдела на подпись списки»).
Работа «по лесу» в городах областного подчинения совмещалась с работой «по театру», но только после смерти Сталина в 1953 году он принес свои пьесы в театр: «Андрей Ставров», «Горящее сердце». В 1955 году его «Андрей Ставров» поставят в Великих Луках.
В 1956 году лесного инженера переводят в Киров. В Вятке в свое время отбывала административную ссылку семья Соломона Шура, так что для И. Шура город был знаком. Приехав на работу лесным инженером, здесь в Кирове он становится драматургом. Он напишет более 50-ти пьес, 17–ть из них увидят сцену, но только 5 пойдут в Кировских театрах - Драматическом и ТЮЗе. С 1956 по 1966 год пьесы И. Шура шли во многих театрах страны.
Казалось бы, творческое признание и массовый успех пришли к автору. Чем больше успех, тем более ты попадаешь под контроль власти, а значит не избежать уступок в творчестве; чем больше ты пишешь для общества, тем сильнее звучит требование власти от имени народа стать ее слугой.
Соединить эти требования и сохранить себя, свое видение и понимание правды жизни - через все это прошел драматург Исаак Шур. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» – это творческая драма И.Шура. Наиболее известная его пьеса «Заводские ребята», она прошла более чем в 100 театрах страны, в Кировском ТЮЗе она шла 3 года. В основу пьесы положены действительные события. Погибающему от ожогов, полученных на пожаре человеку, потребовалась пересадка кожи. Но пострадавший – пьяница, циник, к тому же бывший вор. Молодые рабочие переживают тяжелую внутреннюю борьбу, но в ущерб личным интересам решаются на операцию – делятся своей кожей. Острые внутренние конфликты героев, ярко и живо звучащие диалоги, и, конечно же, любовные переживания, страсти молодых героев не оставляли зрителей равнодушными. Казалось бы, правда жизни, как основное требование советского театра, сохранена, но критик в газете «Советская культура» обвиняет его в правдоподобии: «Но если перед тобой вместо реальной жизни, озаренный высокой идеей писателя, предстают ловко сфабрикованный сюжет, искусственный конфликт, тогда нет искусства, а есть одно ремесло» (О. Грудцова «Искусство или ремесло» «Советская культура» 1965 г).
«Заводские ребята» - ремесленная поделка, по мнению критика, потому что вместо чувств чувствительность, сентиментальность. Мелодраматизм, сентиментальность, чувствительность – вот основные претензии критика. «Герои совершили благородный поступок, но как беден их духовный мир, как ограничен мелкими, самыми элементарными мыслями и чувствами»,- выводит критик. А ведь в пьесе И. Шура не сентиментальность имела драматизм, а человечность, гуманизм, естественность моральных побуждений.
«Большой стиль» требовал больших чувств, а человеческие чувства – это сентиментальность.
Судьба пьесы зависит и от театрального воплощения. Хорошая пьеса может стать не очень хорошим спектаклем. Об этом театральные заметки кировского писателя Л. Лубнина по поводу спектакля по пьесе И. Шура «На повороте», шедшем в драмтеатре в 1962 году. «...театр и драматург не нашли общего языка, на лад их дело не пошло» - итог театральных раздумий Л. Лубнина. Казалось бы, нет в том особой вины И. Шура, но пьеса снята через три месяца. К тому времени пьеса снята с постановки и в Малом театре им. Островского. И это несмотря на переделки. Вот оно давление власти. Драматург идет на уступки, учитывая замечания, обходит крупные соблазны, попадая в мелкие. Пьесы, которые не шли на сцене кировских театров, это: «Молодой лес», «Эстафета», «Чашечка кофе», «Я с тобой», «Фиктивный брак», «У широкой реки». Право ставить пьесу или не ставить оставалось за театром, но принцип «нет пророка в своем отечестве» тоже имел место.
«Редко я встречал людей столь готовых выслушать критику в свою сторону. Когда же речь идет о творчестве – это редчайшая черта», - пишет о И. Шуре писатель А. Лиханов. Сам себя пророком И. Шур не считал.
Окончилась «хрущевская оттепель», изменились идеологические рамки. На пьесы популярного драматурга надвинулась тень партийной цензуры. Вот что пишет об этом сын драматурга Борис Шур: «Начиная с 1966 года, театры страны стали отказываться от новых пьес И. Шура по причине того, что сразу же из партийных органов шло указание не ставить данного автора…И Шуру какой-то партийный чиновник выговаривал: «Почему «Диплом на звание человека», а не коммуниста? И почему герой беспартийный, да еще инженер? Что вы этим хотите сказать? Остальные что – нелюди?»…
Про пьесу «Заводские ребята» «Почему герой не комсомолец, где отражена роль партийной организации… в воспитании молодежи?
Третья пьеса «За ночью день» - была посвящена проблеме «трудных» детей и школьной педагогике… Она также была подвергнута критике… Дескать, автор опять увлекается конфликтами (что не типично в советской жизни». У нас нет проблем «отцов и детей»).
Четвертая пьеса – «На повороте» - вызвала просто гнев. И она несмотря на переделки, через 3 месяца была снята. И. Шура обвиняли в том, что партия у него повинна в массовых репрессиях и беззакониях. К тому времени эта пьеса была снята с постановки в Малом академическом театре им. Островского в Москве и запрещена.[9]
Хотя нельзя не сказать об одном предложении, сделанном И.Шуру Кировским обкомом партии: написать пьесу об С.М. Кирове. Шур отказался. Он встретился с личным секретарем С.М. Кирова, сестрой его жены Софьей Львовной Маркус. «Молчи, а то погибнем», - сказал И. Шур своему товарищу после этой встречи. Что узнал о С.М. Кирове – писать было нельзя, а что нужно – не мог себя заставить.
А о Н. Островском взялся писать. Идею написать пьесу подал Альберт Лиханов. Он приехал в Киров, на свою родину, на три месяца и принес опубликованные в Москве письма Н. Островского его другу Петру Новикову. А. Лиханов, И.Шур и А. Бородин, в то время режиссер Кировского ТЮЗа, (сейчас художественный руководитель Московского академического молодежного театра) - этот творческий союз увенчался впервые для Шура официальным успехом.
Революционная романтика, попытка заново понять революцию, объяснить ее не рационально, а эмоционально: эмоциональные романтические корни революционного порыва в литературе 70-х годов уже появились, это Ю. Трифонов «Отблески костра», Шатров «Так победим», и «Красные кони на синей траве». Пьеса «Письмо другу» была в этом ряду литературы. Пьеса малосценична, это эпистолярный монолог, разговор сердца романтика, отдавшего его революции, с сердцами потомков. Но в 70-е пришло новое поколение, не знавшее революции: оно могло испытывать в лучшем случае сожаление по поводу того, ч то ему не пришлось испытать такого накала чувств к революционной идее.
Пьеса имела официальный успех, выдвинута на соискание премии Ленинского комсомола. Рецензию для представления пишет секретарь Обкома комсомола. (Приложение)
И. Шур, до этого имевший дело с оценками своего труда театральными критиками, сейчас получающий признание партийно - комсомольское, как реалист, понимал что чистого творчества в стране быть не может, но почему-то, по признанию близких, очень нервничал. Известие о присуждении премии нашло его в больнице.
Из воспоминаний В.М. Сюткина: «И. Шур ставился в 50-60–е годы, но и не ставился. Очень жаль ему было пьесы «Чашечка кофе» - это была по стилю и по восприятию похожа на володинские «Пять вечеров». Очень хотелось увидеть ее на сцене. А «Письма к другу» – это, конечно, компромисс: надо было жить».[9]
Последние годы жизни (1960-1970 годы) И. Шур работал на Кировском телевидении главным редактором кинопроизводства. Он написал сценарии к документальным фильмам, которые демонстрировались также и на всесоюзном экране. Вот названия некоторых из них: «Зеленый шум» (1968 г.), «Сказка о «Белке» (1968 г.), «Сыны мои» (1970 г.), «Природа и фантазия» (1971 г.) и др.
Как всякий м
Спектакли:
Горящее сердце (постановка 1958 года)
Заводские ребята (постановка 1958 года)
Новости
03.06.2024
Работа касс в июне
В июне кассы переходят на летний график! До 24 июня кассы театра работают ежедневно, с 10:00 до...
18.06.2024
Подвели итоги «Заряди школу ТЮЗом» и «Разыскивается
амбассадор»
14 июня на Камерной сцене подвели итоги сразу 2-х больших проектов этого сезона: «Заряди школу ТЮЗ...
05.07.2024
Театральный сезон завершен!
Театральный сезон официально завершился. В июле и августе наши артисты и сотрудники традиционно за...
22.11.2023
Наш телеграм-канал – лучший по версии «ТопБЛОГ»
Наш телеграм-канал стал победителем 3-го сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия ...
Все новости
-

«Маугли» -

«Я, бабушка, Илико и Илларион» -

«Без ума от горя» -

«Волшебник Изумрудного города» -

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» -

«Приключения Фунтика» -

«Аленький цветочек» -

«Тропа. Бемби» -

«Денискины рассказы» -

«Гроза» -

«Сын» -

«Таланты и поклонники» -

«Рони, дочь разбойника» -

«Чудеса на Змеином болоте» -

«Плохие парни» -

«Прощание с Матёрой»